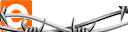Интервью Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Молдова Озерова Олега Борисовича главному редактору портала православных журналистов и блогеров Молдовы «Традиция» Виктору Жосу.
– Олег Борисович, спасибо, что согласились дать интервью. И начну с традиционного вопроса: вы приехали к нам в Кишинев в начале октября. Какие ваши первые впечатления от Молдавии?
– Спасибо большое за этот вопрос. Я хочу сказать, что мои первые впечатления от Молдавии самые благоприятные. Имею в виду, прежде всего, саму страну и ее людей. Да, видно, что есть экономические и другие проблемы, но меня приятно удивило, поразило гостеприимство, открытость, доброжелательность и такое доброе отношение со стороны людей, с которыми я встречался. Я уже достаточно много поездил: вся эта информация была представлена практически в полном объеме на Телеграм-канале, нашего посольства.
Я хочу сказать, что главное впечатление от встреч с людьми – теплота контактов, доброе отношение и разнообразие страны. Это, конечно, впечатляет. Удалось посмотреть достопримечательности, удалось посмотреть и города – Комрат, Тирасполь, Сороки, очень интересный город, своеобразный, со своим лицом. Поэтому у меня сложились самые благоприятные впечатления – главное, о людях, которые здесь живут. А страна – это, прежде всего, люди!
– Если позволите, перейдем непосредственно к вопросам, которые касаются вас как дипломата. У вас богатый дипломатический опыт, до приезда сюда вы работали во Франции, но в основном, насколько мы успели узнать, ваши интересы были связаны с Ближним Востоком и Северной Африкой: Тунис, Сирия, Саудовская Аравия. Вы специализировались в этой сфере, у вас есть и научные труды, посвященные ближневосточному региону. И вдруг – Республика Молдова. На мой взгляд журналиста, поворот несколько неожиданный. А для вас, кадрового дипломата, это обычная практика?
– Это, наверное, было бы неожиданно во времена СССР. Во времена Советского Союза у нас действительно была строгая регионализация, и тот человек, который начинал работать на Ближнем Востоке, обычно там и заканчивал свою карьеру. Несколько поколений дипломатов были так воспитаны. В этом были свои плюсы, потому что это породило очень сильную ближневосточную школу дипломатов. Я, кстати, написал об истоках советской школы книгу о жизни и судьбе Карима Хакимова, который был первым послом Советского Союза сперва в Хиджазе, а затем в Саудовской Аравии.
Но это, конечно, имело и свои минусы, потому что немного сужало спектр интересов и, может быть, даже понимания процессов, которые происходили в мире. После развала СССР это немного поменялось. Нынешнюю практику ввел Игорь Сергеевич Иванов, у которого я работал, когда он был еще первым заместителем министра иностранных дел (потом он стал министром). Он как раз начал продвигать другие подходы с тем, чтобы расширить спектр наших знаний и пониманий мира. Именно тогда, в 1997 году, я поехал работать во Францию – тоже, можно сказать, неожиданный поворот: Ближний Восток и Франция.
Поэтому назвать мой приезд сюда таким крутым поворотом невозможно, тем более что прецеденты уже были. Мой добрый товарищ, арабист Валерий Иванович Кузьмин, был здесь послом. Поэтому ничего удивительного в таком повороте нет.
– В таком многолетнем дипломатическом опыте чтó для вас превалировало, какие моменты, сложные проблемы, с которыми вы сталкивались и которые приходилось решать, будь то во Франции или на Ближнем Востоке, в Северной Африке? Какой главный вывод или какую мудрость для себя как дипломата вы извлекли?
– Первый вывод такой: если ты отправляешься в какую-то страну работать, ты должен ее полюбить, иначе работать невозможно. Или ты не должен ехать в эту страну, сказать: «Знаете, я туда не поеду. Извините, но с этими людьми я не хочу, у меня с ними не получается, но может получиться с другими». Это первое.
Второй вывод, который напрашивается из моего личного опыта, общий для всех дипломатов, но который, к сожалению, в последнее время стал забываться, – это, конечно, знание истории. Поэтому, приезжая в любую страну, я начинаю с изучения ее истории и культуры.
Так было в Саудовской Аравии, когда я туда приехал: погрузился в историю, взял лучшие труды наших блестящих ученых-арабистов – академика Васильева, Яковлева, Наумкина, других – и начал читать, изучать страну. Потом, естественно, поездил по стране. Спасибо, кстати, саудовской стороне, она позволила. Там расстояния другие, это здесь сел на машину и поехал. А там два с половиной миллиона квадратных километров и расстояния до одной тысячи километров от одного региона до другого. Это второй вывод.
Первый – надо любить страну, второй – нужно изучать страну, понимать ее историю и культуру, традиции и обычаи. Собственно, Карим Хакимов, о котором я писал, он был именно такой человек. Приезжал и начинал с того, что шел на базар. Он в Иране работал, в Саудовской Аравии, в Йемене. И вот он шел на базар, знакомился там с людьми, выяснял привычки, обычаи, все то, чем живет простой человек. А уже потом интересовался жизнью верхов.
Вначале нужно узнать жизнь простого человека, его заботы, его каждодневные нужды. Тогда ты можешь лучше понять страну. Этому меня учили, когда я приехал первый раз работать в Сирию, учили наши дипломаты, которые были моими учителями. Часть из них уже в отставке. Это наш бывший замминистра Александр Владимирович Салтанов, это блестящий арабист Андрей Валентинович Вдовин. Ну и ныне действующие, такие как Михаил Леонидович Богданов, заместитель министра, спецпредставитель Президента по ближневосточным странам. Они давали мне уроки именно в таком ключе: надо изучать страну, надо хорошо ее понять, только тогда ваша дипломатия может быть качественной.
А иначе вы будете поверхностным, «паркетным» дипломатом. Есть «паркетные» генералы, но есть и «паркетные» дипломаты. Бокал шампанского, походить на приемах, поразговаривать – и все! Но тогда вы не претендуйте на серьезную дипломатическую работу.
– Ваш ответ, безусловно, важен и содержателен, но народ – народом, а есть и политики. И послам в силу их обязанностей приходится иметь дело с властями. Мы – государство молодое, традиции у нас, естественно, не такие богатые, как у восточных государств. Может быть, и в силу того, что нам не хватает политического опыта, нет накопленных знаний, в том числе в сфере международных отношений, мы были свидетелями того, как, в частности, ваш предшественник сталкивался с целым рядом проблем, с так называемыми острыми углами. Естественно, вы об этом всем знаете. В ожидании неожиданностей, как Вы намерены обходить такие острые углы?
– Ну, во-первых, не всегда острые углы нужно обходить, даже в дипломатии. Это раз. Во-вторых, что такое дипломатия? Дипломатия – это искусство возможного. Есть вещи, которые невозможны в данных обстоятельствах, а есть вещи, которые возможны. И, наконец, есть – я надеюсь, что оно существует не только с российской стороны, но и с другой стороны – понимание того, что дипломатия – это диалог. И если есть дипломатические отношения, значит должен быть и диалог. Вот это, собственно, то, о чем сейчас надо думать.
Установка, как вы знаете, западного мира сейчас такая: мы не ведем диалог с Россией, мы вообще с ней не разговариваем. Вот не разговариваем – и все! Но при этом поддерживаем дипломатические отношения. Это такой оксюморон и абсурд.
Такой театр абсурда в стиле Эжена Ионеско, которого здесь любят и уважают, даже театр есть его имени. Именно он как раз прозорливо предложил эту теорию театра абсурда, когда стулья висят на потолке и так далее. Много можно на эту тему рассуждать. Есть пьеса – «В ожидании Годо», когда два героя хотят решить какие-то проблемы и все время ждут, что придет Годо и разрешит их проблемы, а Годо все не приходит. И это к вопросу о дипломатии. Если Годо не приходит, то, значит, надо вести диалог, разговаривать и решать проблемы.
Потому что опыт о чем говорит? Можно, конечно, замораживать, не разговаривать и так далее. Это один из возможных вариантов. И у нас есть некоторые страны, в нашем круге, которые пошли по этому пути. Никто не разрывал дипотношений, даже, например, поляки – им говорили, мол, но вы посла-то вышлите отсюда! – нет, никто не выслал. Более того, сказали: нет, мы не будем этого делать. Потому что все-таки, наверное, в умах, и не только в Польше, есть понимание того, что даже если не сейчас, то чуть позже настанет время для диалога.
Если возвращаться к прошлому, то, например, советская дипломатия тоже совершала определенные ошибки, если смотреть с высоты сегодняшнего дня. Тогда это не казалось ошибкой – допустим, разорвали дипломатические отношения с Израилем. Но диалог с Израилем был нужен, он все равно вернулся. Разногласия – да, они и сейчас есть, и тогда были, по палестинскому и другим вопросам. Но это не мешает нашему диалогу. И наш посол там ведет сейчас очень тонкую дипломатическую работу, выстраивает отношения с Израилем.
Потому что современный мир – это переплетение интересов. Возьмите тот же Израиль. Там же «на четверть бывший наш народ», как говорил гениальный Высоцкий. Есть проблемы, связанные с той же Сирией. В сложных ситуациях, когда есть расхождения в подходах, как раз инструмент дипломатии и пригождается.
Иногда его кладут в «холодильник», так бывает в истории и в жизни. Но практика показывает, что все равно на том или ином этапе возвращение к классическим инструментам дипломатии оказывается необходимым. Об этом говорит тысячелетний опыт. Дипломатия – это тоже одна из древнейших профессий. Мы знаем, какие есть древнейшие, но дипломатия тоже одна из древнейших. Дипломатические отношения появились, как только возникли первые государства, даже до их возникновения.
Это касается и отношений России с исторической Молдавией, с нынешней Молдавией. Потому что, если мы вспомним историю, опять же корни уходят в глубь веков. Это и отношения Штефана Великого с Иваном III. Тогда сложности тех династических хитросплетений не позволили выйти на долгосрочные стратегические отношения, но тяга двух народов друг к другу существовала. История отношений между нашими народами и государствами показывает, что у нас многовековая история.
Когда я был в Сороках, мы ходили к памятнику, который установлен на том месте, где Петр Первый в 1711 году встретился с Дмитрием Кантемиром – выдающимся деятелем мирового класса, молдаванином. Конечно, это то наследие, которое надо беречь. Потому что очень легко разрушить, что называется, по щелчку. А восстанавливать бывает очень сложно.
Есть такая арабская поговорка: «Нельзя хлопать в ладоши одной рукой». Дипломатия – это как танец, нужны две руки, две стороны, которые в диалоге ищут решение проблем. Если, конечно, они хотят его найти. Если не хотят, тогда они откладывают в сторону эти инструменты. Но жизнь показывает – и это уже китайская мудрость, не русская и не арабская – что лучшая война это та, которая не состоялась. А предотвращать войны – это и есть функция дипломатии.
– Тем более внушает оптимизм тот факт, что у нас единая вера, мы – православные люди. Вы тоже являетесь православным человеком, едва прибыв в Кишинев, были на богослужении в Свято-Георгиевской церкви. Кроме того, мы знаем, что вы – член совета Императорского православного палестинского общества, расскажите немного об этом. А также о том, ощущали ли вы, как вера вам помогала в работе на протяжении вашей дипломатической практики?
– Вы же знаете библейскую истину: «И гору взглядом подымите, если веры в вас будет хоть с горчичное зерно». Конечно, вера помогает. Если она не помогает, значит, веры в вас мало. Как в Библии сказано: «По вере вашей да будет вам». Это не точная цитата, это парафраз, но смысл в этом: по вере дается человеку.
Мне, конечно, как человеку православному, который очень долго шел к этому, вера на разных этапах жизни помогала. Вы упомянули Императорское православное палестинское общество. Я объехал всю христианскую ойкумену – и как будто Господь тебя за руку берет, и тебе показывают все эти места, о многих из которых сегодня приходится плакать. Это Сайданая в Сирии, это храмы, монастыри, потому что Сирия – древняя христианская земля. Там очень много храмов, там живут христиане со времен начала христианства, со времен земного пути Иисуса Христа. Это Маалюля, где Он проповедовал. Вас подводят и показывают: «Вот с этого камня проповедовал Христос». Когда вы это видите, видите иконы, написанные рукой апостола, все это меняет ваше сознание.
Поэтому для меня, когда я сюда приехал, было, конечно, удивительно, интересно и сердечно потрясающе, можно так сказать, увидеть здесь храмы, полные верующих. И не только в Свято-Георгиевской церкви, но и в Каприянском монастыре, и в Курках. Увидеть храмы, полные людей, увидеть огромное число верующих. В этом смысле, может быть, в самой Республике Молдова еще не до конца осознали уникальность этой страны.
Наверное, у нас сейчас в Европе осталось две таких страны, где воссияло православие – Сербия и Молдова. Причем оно дрѐвнее, не заемное, оно здесь свое. Кто-то говорит, что со времен Византии, а кто-то говорит, что еще раньше. Разные есть оценки, первые христианские храмы здесь, может быть, еще с третьего, с четвертого века появились. Это все возникло еще в эпоху Римской империи и потом, после ее раскола, в Византии. Потому что эти места были под Византией.
Главное то, что молдавский народ сохранил эту веру и пронес ее через тяжелые периоды оккупации, государственного атеизма, борьбы с христианством. Он остался православным, и это огромное достижение. Иногда, знаете, многие вещи не видны изнутри, для этого нужно посмотреть извне. Как человек, который приехал извне, я вижу, какое это колоссальное достояние.
А что такое вера? Вера – это не просто человек пришел в храм. Вера – это самобытность, это идентичность, это мировоззрение, это видение мира. Собственно, здешнее православие отражается во многом. Мне кажется, что одна из ключевых черт православных здесь – миролюбие. Есть такое шутливое высказывание: «Мамалыга не взрывается». Оно шутливое, но за ним стоит огромное желание людей – представителей многих этносов, национальностей, национальных меньшинств (здесь десятки, под сотню национальных общин) – жить в мире. И мне кажется, что это миролюбие, уживчивость, сочетаемые с сильной идентичностью – одни из главных отличительных черт молдавского народа, который полиэтничен, многонационален, но находит возможности жить в мире.
Вот это, мне кажется, одно из очень важных достижений. Потому что в мире не так много стран, которые способны так жить, и Россия в их числе. Но здесь, конечно, это особый показатель, тем более что в нынешней хрупкой ситуации, когда все колеблется между миром и войной, важен выбор народа и его понимание своего места в мире. И, конечно, когда глядишь на живущих здесь людей, невольно возникает уважение.
К вопросу о самобытности. Я был в Комрате, в Гагаузии, на винодельческом празднике. Ярко, своеобычно, сплав разных культур. Вино – молдавское, сильная такая традиция, танцы – балканские, одежда – тоже смешение разных традиций. И все это в одном месте. Это очень ценно, и это нужно обязательно сохранять, потому что новый мир, в который мы вступаем, будет миром многообразия культур.
Это не только мы говорим – мол, это вы, русские, придумали. Американцы говорят то же самое, просто они это понимают иначе. Об этом писал и Хантингтон в своей работе «Кто мы?», что ключевым вопросом XXI века будет вопрос идентичности. Я с этим тоже готов согласиться. Собственно, наше руководство тоже об этом говорит: «Посмотрите, какое многообразие культур, какое многообразие цивилизаций, это – общее достояние». Наладить систему, в которой эти разные цивилизации, разные народы, культуры жили бы в мире, – вот задача XXI века. Это ключевой вопрос. Поэтому здесь, конечно, голос молдавского народа очень важен.
– Последний вопрос, который не могу не задать, он касается еще стороны вашей деятельности, о чем я тоже успел прочитать, – это поэзия, стихотворчество. Я даже прочитал, что вы издали сборник стихов. Что для вас стихосложение? Просто какое-то увлечение или потребность, скажем так, выразить себя еще и в лирике каким-то образом?
– Поэзия, во-первых, это состояние души. Россия вообще страна поэзии. В Молдавии это очень хорошо понимают, потому что здесь тоже масса блестящих поэтов. Я говорю не только о тех, кто жил когда-то, как Эминеску, о столпах, но и о современных поэтах. Которые как бы современные, но уже стали историческими. Борис Мариан, к примеру, – уже исторический поэт, потому что ему 90 лет, а он продолжает писать, такой страстный человек.
Это состояние души. Особенно на этой земле, где Пушкин провел свои очень яркие годы. Его иногда ругают за то, что он про Кишинев не так высказывался, но надо же не с сегодняшних позиций смотреть, а понимать, чем это было для него тогда. Но он потом говорил и о небе над головой в Бессарабии, писал здесь великолепные стихи. Конечно, все это находит отклик и у меня. У меня есть как бы свой, внутренний диалог с Пушкиным.
Я абсолютно себя не считаю профессиональным поэтом. Я считаю себя человеком, который записывает эмоции. Потому что мое определение поэзии: стихотворение – это моментальная фотография состояния души. Вы написали – и у вас оно есть. Потом настроение поменяется, и это будет другая фотография другого состояния души, других событий, других впечатлений. Но это – моментальная фотография.
Ну и, естественно, на мое поэтическое творчество оказали влияние крупнейшие наши поэты. Кроме Пушкина, это и Тютчев, и Фет, которые, кстати, все были дипломатами. Из современных поэтов, ХХ века – это Владимир Семенович Высоцкий. Я думаю, что он оказал огромное влияние на всю нашу страну, на весь Советский Союз. Это и Есенин, и Роберт Рождественский, и Андрей Дементьев, и многие другие поэты, их можно перечислять десятками.
Не один я этим занимаюсь. У нас есть в Министерстве иностранных дел литературный клуб «Отдушина» под чутким омофором, скажем так, нашего министра, который тоже пишет стихи и издал сборники. Такое его духовное покровительство дает, конечно, простор творчеству. У нас в МИДе около сотни человек, которые пишут стихи. Опять же, пишут стихи – это не значит, что они являются поэтами. Они пишут стихи, потому что это действительно – тут точное название – их отдушина. Каждый занимается своей деятельностью, но иногда хочется что-то и для души.
Плюс к тому, поэзия – это возможность, как в работе дипломата, кратко выразить свою мысль – емко, в одном четверостишье. Этим как раз занимался Александр Сергеевич Пушкин, который тоже был дипломатом, кстати говоря. Поэтому, конечно, поэзия и дипломатия идут рядом. Во всяком случае, это касается России. И мне кажется, что это, не будучи профессией, является очень хорошим хобби.
– Спасибо вам за столь содержательное интервью. И позвольте пожелать вам успешной дипломатической миссии у нас, в стране молдавской.
– Спасибо.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал https://t.me/enewsmd Много интересного: инсайды, заявления, расследования. Много уникальной информации, которой нет у других